Виктор Тарабыкин — о тайнах мозга, науке на Западе, клинике «Шарите»

Почему исследования в Германии можно сравнить с хобби и кому стоит заниматься наукой? Об этом нам рассказал биолог Виктор Тарабыкин, который проработал за рубежом 27 лет. Узнали, чего ему не хватало на Западе и почему вернулся в Россию, а ещё расспросили о мозге, который он всю жизнь изучает.
Мы продолжаем серию интервью с российскими учёными, у которых накоплен опыт работы за рубежом, у многих — весьма солидный. Им есть с чем сравнивать, поэтому говорим с ними не только о профильных исследованиях, но и том, как развивается наука в России и других странах.
— Виктор Степанович, давайте начнём с вашего профиля. Вы занимаетесь биомедициной, изучаете мозг.
— Да, я специализируюсь на генетике развития головного мозга. Если точнее, изучаю гены, отвечающие за развитие его коры. Такие исследования дают понимание механизмов нормального функционирования нервной системы и её возможных нарушений. Кортекс, или кора головного мозга, это наиболее сложная структура центральной нервной системы, ответственная за высшие когнитивные функции: мышление, память, восприятие, речь и сознание. Некоторые генетические мутации могут приводить к нарушениям в формировании коры головного мозга. Обычно они проявляются через неврологические расстройства: аутизм, шизофрению, эпилепсию, умственную отсталость. Понимая механизмы действия этих генов, в дальнейшем можно разработать новые методы диагностики и лечения таких состояний.
Также исследования в этой области помогают выявить потенциальные мишени для лекарств, направленных на коррекцию дефектов в развитии кортекса. Например, если конкретный ген контролирует миграцию нервных клеток в период внутриутробного развития, значит, можно создавать лекарства, восстанавливающие правильное движение этих нейронов.
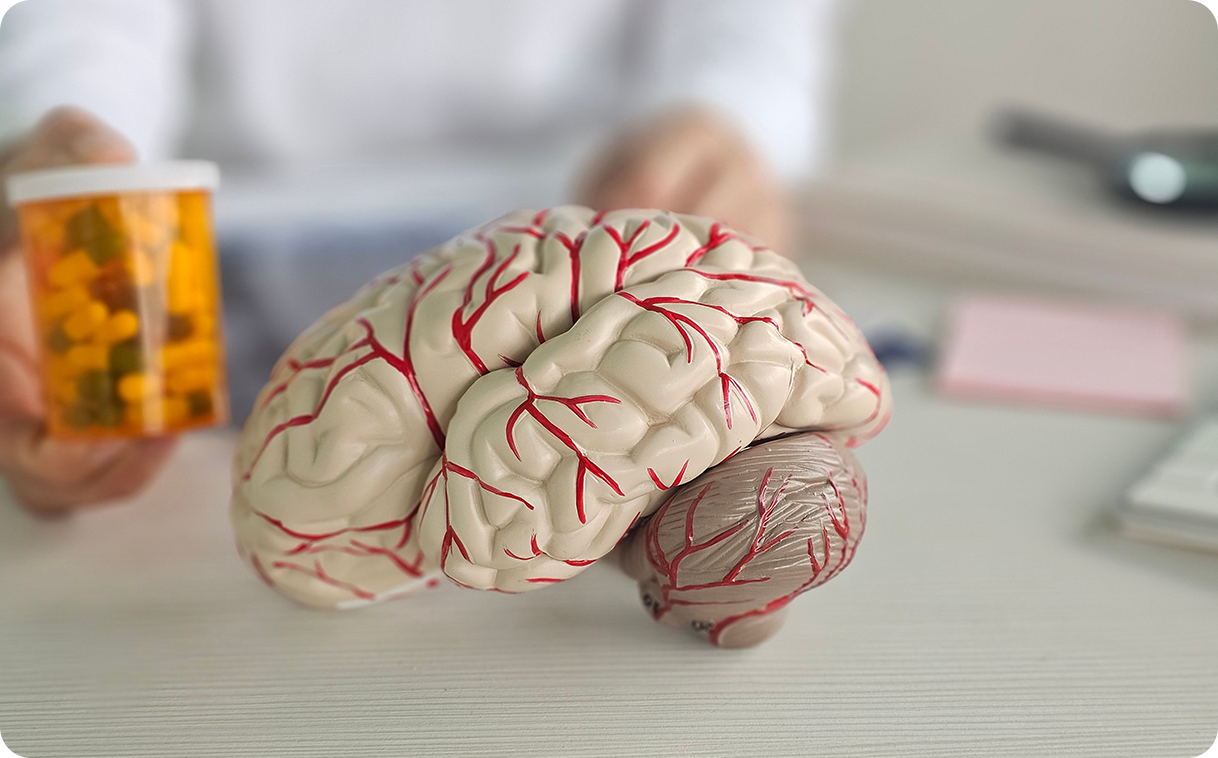 Современная наука о мозге отталкивается от двух важнейших открытий: изучения рефлексов и выявления специализации различных областей кортекса
Фото: © NMK-Studio / Shutterstock / FOTODOM
Современная наука о мозге отталкивается от двух важнейших открытий: изучения рефлексов и выявления специализации различных областей кортекса
Фото: © NMK-Studio / Shutterstock / FOTODOM
Кроме того, детальное изучение генов, отвечающих за развитие кортекса, даёт возможность понять эволюционное происхождение таких когнитивных функций, как разум и сознание. А это, в свою очередь, проливает свет на различия между мозгом человека и других млекопитающих. То есть эти исследования относятся ещё к фундаментальной науке.
Кто такой Виктор Тарабыкин?
Виктор Тарабыкин — доктор биологических наук, профессор, руководитель научной группы Университета «Сириус», профессор клиники «Шарите» в Германии.
— Как вы пришли в науку?
— Я родился в Ангарске — это небольшой город в Сибири, недалеко от озера Байкал. В детстве я очень любил животных. Мечтал стать зоологом, чтобы изучать их поведение. Обожал ходить в походы, а ещё получал огромное удовольствие от посещения зоопарков, особенно тех, где животные обитают на обширных территориях. Наблюдать за ними было очень интересно. Это ощущение хождения по новым тропам похоже на то, что происходит в науке. Там тоже приходится прокладывать новые пути, исследуя неизвестное.
 Ангарск расположен недалеко от Байкала — самого глубокого озера в мире
Фото: © Tatyana Andreyeva / Shutterstock / FOTODOM
Ангарск расположен недалеко от Байкала — самого глубокого озера в мире
Фото: © Tatyana Andreyeva / Shutterstock / FOTODOM
Позже, в старших классах, меня увлекла генетика. Стало интересно, как именно наследуются поведенческие черты. Оказалось, что основы наследственного поведения кроются в генах. Этот интерес в итоге привёл меня к изучению генетики развития мозга.
— Где вы получили высшее образование?
— В 17 лет я переехал в Москву, где поступил во Второй медицинский университет на медико-биологический факультет. Меня особенно привлекали три направления: генетика, нейробиология и эмбриология. Основное внимание я уделял генетике развития, именно она вызывала у меня наибольший интерес. В нашем университете были прекрасные профессора. Когда я уже сам стал преподавать, часто вспоминал их лекции и семинары.
После защиты кандидатской диссертации решил продолжить научный путь за рубежом. Когда писал диссертацию, прочитал много статей иностранных авторов в топ-журналах. Я выбрал понравившиеся и написал руководителям лабораторий, которые проводили эти исследования (их было около 30), что хочу устроиться к ним на позицию постдока.
 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова неофициально называют «вторым медом»
Фото: © ФГАОУ ВО "РНИМУ им. Н.И. Пирогова"
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова неофициально называют «вторым медом»
Фото: © ФГАОУ ВО "РНИМУ им. Н.И. Пирогова"
Я всегда считал, что нужно работать в лучших лабораториях, которые находятся на переднем крае науки. Уже после переезда на Запад ко мне пришло осознание: никогда не стоит посвящать себя исследованию или эксперименту, которые не внесут нового вклада в мировое знание.
Нужно всегда начинать проект с очень амбициозных задач
Во что они превратятся дальше, это уже другое дело. Но если изначально искать что-то надёжное, но незначительное, вряд ли удастся достичь чего-то действительно стоящего. Другими словами, нужно искать не под фонарём, где и так всё видно, а в темноте.
— Получается, вы уехали из России в 1990-е?
— Да. Тогда в нашей стране было очень сложно заниматься наукой. Многие эмигрировали, кто-то уходил в коммерцию, некоторые даже занимались лечебным массажем. Но я не мог представить себя в другой профессии. Я часто говорю аспирантам: «Если вы видите себя где-то вне науки, лучше пойти именно туда».
Наука требует полной самоотдачи, и посвятить ей жизнь стоит, только если вы абсолютно уверены, что не можете заниматься ничем иным
В итоге я получил около десяти предложений и выбрал самое интересное — лабораторию в институте Макса Планка в Германии. Через несколько лет получил возможность сформировать команду и руководить собственной лабораторией. А в 2009-м стал профессором и возглавил Институт в берлинской университетской клинике «Шарите».
 «Шарите» — одна из старейших и наиболее уважаемых университетских клиник Германии и Европы, известная своими богатыми традициями, высоким уровнем науки и медицинского обслуживания
Фото: © Dirk1981
«Шарите» — одна из старейших и наиболее уважаемых университетских клиник Германии и Европы, известная своими богатыми традициями, высоким уровнем науки и медицинского обслуживания
Фото: © Dirk1981
— Сложно было адаптироваться в чужой стране?
— Скажу так: культурный шок от переезда из России в Германию оказался для меня не таким сильным, как от переезда из родного Ангарска в Москву.
— Как устроена научная работа в Германии?
— В этой стране найти постоянную работу в науке непросто. Долгосрочные позиции встречаются редко, и, по различным оценкам, от 50 до 70 % выпускников аспирантуры уходят работать в частные компании или другие сферы. Лишь около 30 % продолжают академическую карьеру.
Ещё для успешной научной карьеры в Германии необходимо пройти стажировку за границей. Это важный элемент профессионального роста, позволяющий приобрести опыт в иностранной лаборатории. Немецкие учёные, получившие степень PhD, отправляются в другую страну. Следующий этап — постдокторская позиция длительностью от трёх до пяти лет. После этого появляется возможность претендовать на руководителя группы. На этой должности учёные получают временные контракты сроком от пяти до девяти лет, после чего снова вынуждены искать новые возможности, нередко за пределами Германии. Это жёсткая конкурентная система, которая отсеивает большинство соискателей на каждом этапе. При выборе соискателей смотрят на публикации в престижных журналах. Поэтому стабильных коллективов там практически не существует.
Одно из ключевых отличий западной научной культуры — индивидуализм. В восточных научных командах коллективные интересы обычно ставятся выше личных
В Германии я проработал 27 лет, было огромное количество проектов, и команда все время менялась. Сначала я был постдоком, со мной работали два моих студента. Потом возглавил группу учёных, затем стал заведующим лабораторией, потом профессором и директором Института клеточной биологии и нейробиологии клиники «Шарите». За это время было реализовано множество проектов, нам удалось внести свой оригинальный вклад в понимание того, как формируется нервная система в ходе развития организма. За это время мы многое узнали об этом сложном процессе.
— Но вы же не только занимались наукой, но и преподавали…
— Конечно. В Европе, и особенно в Германии, обучение студентов — неотъемлемая часть академической карьеры в университете. Получение профессорской должности предполагает, что государство платит тебе зарплату в первую очередь за преподавание. Научная работа рассматривается скорее как занятие, которому уделяется свободное от преподавания время. Для меня чтение лекций и ведение семинаров всегда было естественным процессом. Когда я преподаю те области науки, в которых сам работаю и хорошо разбираюсь, то получаю от этого большое удовольствие.
— Вы быстро привыкли к знаменитому немецкому менталитету?
— На самом деле, Германия — страна с разнообразной культурой. К примеру, северные немцы существенно отличаются от южных, более эмоциональных и экспрессивных. Северяне даже центральные регионы считают югом, а жители последних шутят, мол, те спускаются в подвал, чтобы улыбнуться. Так что обобщать немцев неправильно. Например, в центральных регионах люди весьма дружелюбные и приветливые, а в Берлине — более прямые и жёсткие, хотя не грубые. Улыбок там меньше, но при близком знакомстве жители столицы оказываются отзывчивыми и готовыми помочь.
— Как вы вернулись Россию?
— Я никогда не рвал связь с родной страной, мне нравилось сюда возвращаться. Долгое время совмещал научную работу в России и Германии. У меня была лаборатория в Нижнем Новгороде, а также институт и лаборатория в Берлине. Последние 10 лет я, по сути, жил на две страны.
Я русский человек, мне хорошо в России
Где бы вы ни жили за границей, если вы там не родились, то всегда будете ощущать себя иностранцем. Для меня важны эмоциональные аспекты, и мне очень комфортно в России. Хотя есть много людей, которые обходятся без этого — и им нет необходимости постоянно возвращаться на родину.
Кроме того, возможно, это прозвучит пафосно, но мне хотелось внести вклад в развитие нейронаук в своей стране. Когда я только начинал работать в Нижнем Новгороде, где создал лабораторию, там тогда мало что было. Наверное, это можно сравнить с оазисом в пустыне — когда вы там поливаете деревья, ваш вклад сразу заметен. На Западе из-за мобильности и постоянной ротации, особенно в больших научных центрах, таких как Берлин, Лондон, Бостон, индивидуальный вклад теряется в общем потоке.
— А как вы оказались в Сириусе?
— Я сотрудничаю с Университетом «Сириус» практически с момента его основания. Ещё до того, как начал здесь работать, меня приглашали читать лекции и общаться со школьниками в Образовательный центр «Сириус». Со временем аудитория расширилась, появились студенты. Общение с ними всегда приносило мне огромное удовольствие, ведь здесь собираются лучшие представители молодёжи со всей страны. Позже была объявлена программа мегагрантов, и я подал заявку.
Федеральная территория вошла в число российских регионов, где по поручению Президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» создаётся сеть современных университетских кампусов. Научно-технологический кампус «Сириус» станет смысловым, культурным и образовательным ядром федеральной территории. Здесь будут жить и работать ведущие и молодые ученые, студенты и преподаватели. В состав кампуса войдут жилой квартал для студентов, новый корпус Лицея, медицинская клиника, учебный корпус, жилье для сотрудников Научно-технологического университета «Сириус» и резидентов Инновационного научно-технологического центра. Кампус будет углеродно нейтральным и станет полигоном для демонстрации доступных передовых работ в области низкоуглеродного строительства.
— Почему захотели развивать свой исследовательский проект на первой федеральной территории?
— В Университете «Сириус» отлично развита инфраструктура и есть уникальная современная приборная база. Это одно из немногих мест в России, где созданы все условия для проведения научных исследований. Подобная концентрация ресурсов встречается крайне редко, и такая мощная поддержка помогает воплощать самые амбициозные идеи.
Сейчас в нашей лаборатории работают несколько магистров и аспирантов, которые занимаются собственными проектами и принимают непосредственное участие в научных исследованиях. Таким образом, я не только занимаюсь наукой, но и готовлю будущих специалистов, которые, я надеюсь, продолжат работать в науке.
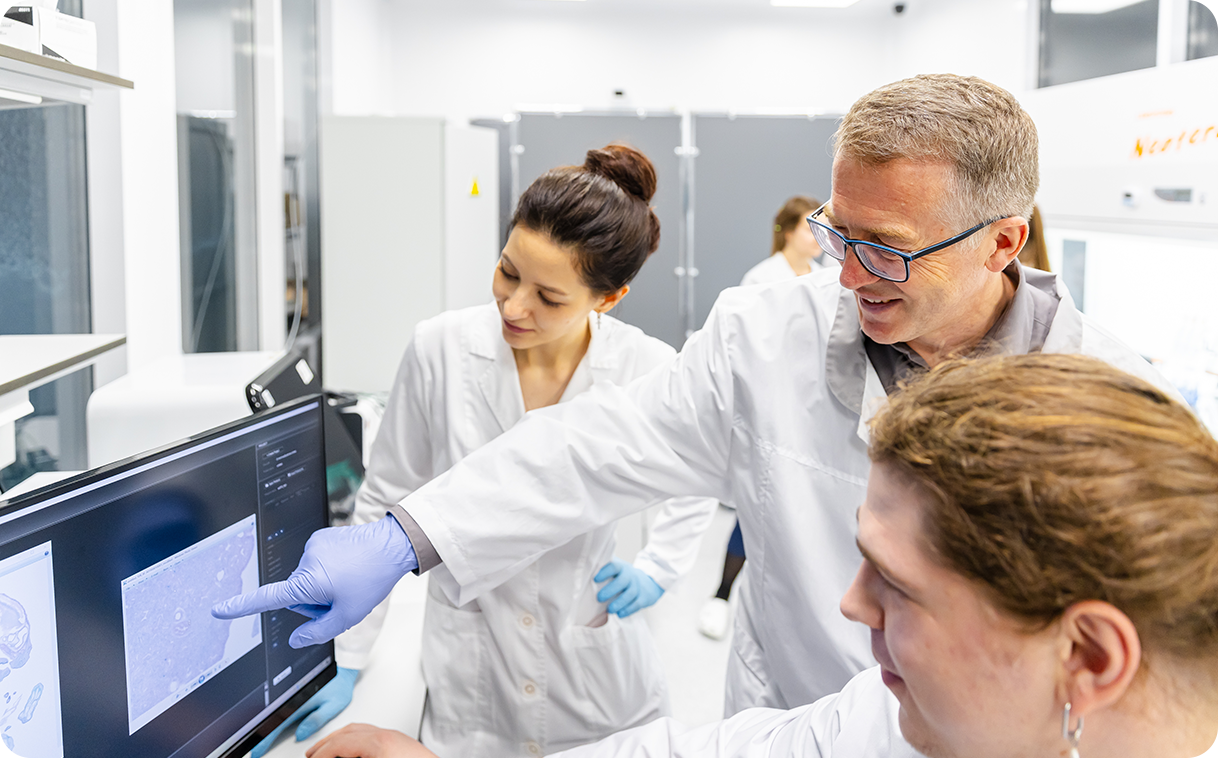 Профессор Виктор Тарабыкин — признанный эксперт в области молекулярной нейробиологии и биологии развития
Фото: © Варвара Слива / Медиадом «Сириус»
Профессор Виктор Тарабыкин — признанный эксперт в области молекулярной нейробиологии и биологии развития
Фото: © Варвара Слива / Медиадом «Сириус»
— Какими проектами вы занимаетесь в Сириусе?
— Как и все остальные, они посвящены развитию нервной системы. С помощью медицинских генетиков мы находим гены, которые мутировали у пациентов с разными неврологическими заболеваниями: аутизмом, умственной отсталостью, эпилепсией. Дальше мы создаем мышиные модели и изучаем молекулярные процессы, которые приводят к этим патологиям. Мы изучаем молекулярную основу патогенеза этих неврологических заболеваний.
Каждый третий житель Земли страдает от неврологических заболеваний. Особое место занимают патологии, связанные с врождёнными пороками развития, а также злокачественные новообразования головного мозга. Проект Сириуса направлен на создание моделей врождённых пороков развития и различных подтипов глиом. Исследование получило финансирование в рамках государственной программы Научно-технологического развития федеральной территории Сириус.
— Цель ваших исследований — найти лекарство или метод лечения?
— Основная задача — понять молекулярные процессы, ведущие к развитию заболеваний. На изучение одного такого механизма уходит от трёх до пяти лет, и даже за это время мы охватываем лишь отдельные аспекты проблемы. Лечение наследственных патологий, которыми мы занимаемся, во многих случаях невозможно, поскольку когда ребёнок родился, обычно исправить уже ничего нельзя. Наши исследования важны для диагностики, прогнозирования, профилактики. В некоторых случаях, например, при эпилепсии, лечение возможно. В таком случае наши исследования помогут фармацевтическим компаниям использовать эти данные для поиска эффективных терапевтических методов.
 В Университете «Сириус» разрабатывают инновационные методы борьбы с различными заболеваниями
Фото: © Варвара Слива / Медиадом «Сириус»
В Университете «Сириус» разрабатывают инновационные методы борьбы с различными заболеваниями
Фото: © Варвара Слива / Медиадом «Сириус»
— А заболевания мозга вообще можно предотвратить?
— У патологии могут быть разные причины — генетические факторы, травмы, инфекции, возрастные изменения. Полностью предотвратить все возможные заболевания мозга невозможно, но снизить риски их развития вполне реально. Сделать это можно благодаря здоровому образу жизни, физической активности и отказу от вредных привычек. Хотя не стоит ожидать мгновенного улучшения работы мозга после смены диеты или других внешних факторов.
Мозг подобен мускулу — развивать его способности помогают регулярные умственные упражнения, чтение и решение задач
Чем активнее вы его используете, тем меньше вероятность развития болезни Альцгеймера или других деменций. Особенно важно стимулировать умственную активность в детском и подростковом возрасте, когда нервная система ещё формируется. В этот период критически важно, чтобы дети сталкивались с интеллектуальными вызовами и решали сложные задачи, а не ограничивались развлечениями.
— Какие открытия в мире науки вы бы назвали ключевыми за последние десятилетия?
— Во-первых, были прочитаны человеческий и многие другие геномы. Появились технологии, позволяющие быстро и направленно их менять. Во-вторых, метод редактирования генома CRISPR-Cas, который колоссально изменил нашу работу. Благодаря этой технологии мы можем проводить эксперименты, связанные с изменением активности различных генов, намного быстрее. То, что раньше занимало несколько лет, теперь можно сделать за полгода. Также появилась технология глубокого секвенирования. Она позволяет определять нуклеотидные последовательности ДНК и РНК, обеспечивая одновременное считывание большого количества участков генома. Благодаря этому мы можем прочитать ту часть генома, которая активна в конкретной клетке.

Что такое CRISPR-Cas9?
ЧитатьЕще появились новые методы анализа связей между нервными клетками. Сейчас мы способны делать мозг мыши целиком прозрачным, визуализируя нейронные связи в трёхмерном пространстве. Это выводит исследования на принципиально новый уровень. Раньше мы могли наблюдать лишь плоские изображения, полученные путём нарезки мозга на тонкие слои. Создание трёхмерной картины из таких фрагментов было чрезвычайно трудоёмким процессом и не всегда давало точные результаты. Сегодня же, имея возможность просвечивать весь мозг, мы получаем детальные изображения связей между сотнями и тысячами нейронов из различных областей коры и других структур.
— То есть учёные стали намного яснее понимать, как функционирует мозг…
— Мы уже разобрались с основными принципами развития коры головного мозга, но до полного понимания всех взаимодействий генов и их продуктов нам ещё далеко. Одним из главных затруднений в исследовании молекулярных каскадов является сложность их структуры. На вершине каскада находится транскрипционный фактор, управляющий активностью множества генов. Продукты этих генов взаимодействуют друг с другом и запускают дополнительные каскады. Мы пока не можем полностью оценить всю сложность этих процессов, так как имеющиеся методы позволяют изучать лишь отдельные элементы этой системы, а не всю её целиком.
— Как вы относитесь к распространённому утверждению о том, что человек использует лишь два процента потенциала своего мозга?
— Это абсолютная глупость. Мы используем мозг на 100 %.
— Что самое удивительное вы открыли для себя за те годы, что занимаетесь наукой?
— Самым поразительным для меня всегда было то, как генетический код, состоящий всего из четырёх букв, способен закодировать невероятно сложные формы наследственного поведения. Простой пример — медоносные пчёлы. Они обладают врождёнными инстинктами, которым их никто не учит. Иногда у них встречается гнильца — вирусное заболевание. Пчёлы способны распознавать заражённую им личинку, извлекать её из ячейки, запечатывать последнюю, чтобы предотвратить распространение инфекции. Это сложное поведение передаётся по наследству и проявляется независимо от обучения. Но существуют мутации, при которых пчёлы теряют способность либо удалять личинку, либо запечатывать ячейку. Вот как такие сложные вещи можно записать четырьмя буквами? Для меня это до сих пор загадка.
— Вы столько лет посвятили науке. Осталось ещё что-то, чего хочется достичь в профессиональном плане?
— Моя главная профессиональная мечта — воспитывать независимых учёных мирового уровня. По сути, создать в России школу, о которой будут говорить: это школа Тарабыкина. Когда увлечённые молодые учёные будут не просто работать рядом со мной, но и развиваться, расти самостоятельно. Это амбициозная цель, и я уверен, что именно в нашей стране она достижима.












