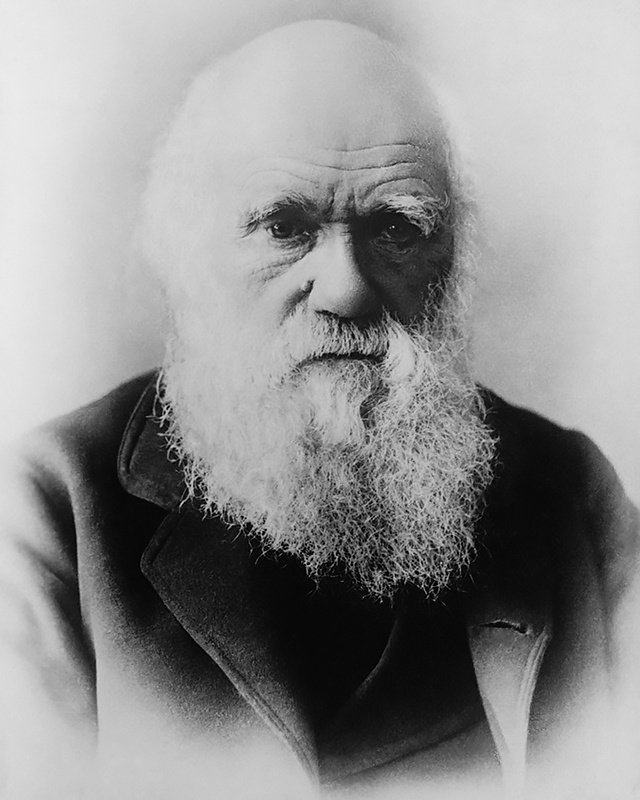Лауреат премии «Просветитель»: хочу написать про большого ученого из династии Романовых

Почему теория Чарльза Дарвина не священная корова и отчего она все еще вызывает много споров? Какие события бесповоротно изменили зоологию? С чего начать тому, кто решил заняться популяризацией науки? Эти и другие вопросы обсудили с профессором биофака СПбГУ и лауреатом премии «Просветитель» Максимом Винарским. А еще узнали, какая научно-популярная книга у него в планах.
Максим Винарский — доктор биологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, заведующий Лабораторией макроэкологии и биогеографии беспозвоночных. Главный научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН. В 2021 году за свою первую научно-популярную книгу «Евангелие от LUCA. В поисках общего предка всего живого» получил премию «Просветитель».
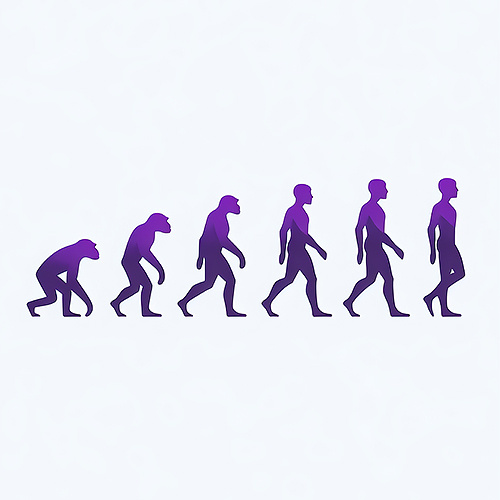
Книга недели: спорная теория Дарвина
Читать— Максим Викторович, вот-вот выйдет из печати ваша новая научно-популярная книга «Мертвый лев: Посмертная биография Дарвина и его идей». Мы уже рассказали о ней нашим читателям, но всегда интересно узнать о чем-то из первых уст. Почему вы решили ее написать и чем она отличается от других работ по эволюции или биографий Дарвина?
Русскоязычному читателю доступно несколько биографических книг о Дарвине, и писать еще одну мне совершенно не хотелось. А хотелось рассказать о Дарвине и его теории так, как это еще никто не делал, по крайней мере на русском языке. С обширными экскурсами во внебиологические области, с цитатами из классической литературы и с современных интернет-форумов. Так я решил, что моя книга будет посмертной биографией великого ученого. Поэтому начинается она не в день его рождения, а в день смерти — 19 апреля 1882 года.
 Максим Винарский — автор десятков научных публикаций в российских и зарубежных изданиях
Фото: из личного архива Максима Винарского
Максим Винарский — автор десятков научных публикаций в российских и зарубежных изданиях
Фото: из личного архива Максима Винарского
Главный стимул ее написать возник много лет назад, когда я активно участвовал в жизни разного рода интернет-форумов об эволюции и связанных с ней проблемах. Довольно быстро выяснилось, что со значительной частью моих виртуальных собеседников осмысленная беседа просто невозможна. Понимание таких словосочетаний, как «теория эволюции», «Чарльз Дарвин», «естественный отбор», у меня и моих оппонентов резко отличалось. У них в голове сидит совсем другой образ автора «Происхождения видов», далекий и от исторической действительности, и от понимания его профессиональными биологами. Дарвина часто воспринимают как антигероя, вечно ошибавшегося и поведшего биологию совсем не туда.
Это очень далеко от реальности, но на чем-то же это восприятие основано?! Отсюда возник вопрос: почему же к ученому, умершему почти полтора века назад, до сих пор сохраняется такой пристальный и небеспристрастный интерес? Почему Дарвин и сегодня «живее всех живых»? Так и родился замысел этой книги. Ее содержание можно определить так: долгий-долгий разговор с читателем о том, какое место автор эволюционной теории и она сама занимают в современном мире и как со временем менялось отношение к дарвинизму в обществе. Иными словами, в фокусе книги — Дарвин, воспринимаемый глазами других. А также то, как научные идеи начинают жить своей особой жизнью, выйдя из-под власти создателя. Такую книгу можно было написать об Эйнштейне или о Фрейде, но я биолог, и Дарвин мне гораздо ближе и понятнее других научных гениев прошлого.
— Несмотря на все достижения современной биологии, ученые все еще критикуют и оспаривают идеи Дарвина. Почему?
По-моему, дело в том, что биологическая эволюция — очень сложный, многомерный процесс, который может идти самыми разными путями. Дарвин не «открывал» эволюцию, он лишь создал одну из самых убедительных познавательных моделей для ее описания и изучения.
Однако природа многолика, и вполне допустимо, что некоторые процессы в ней идут не «по Дарвину»
Ничего фатального для дарвинизма в этом нет. В отличие от религиозных догматов, Дарвин и его учение — не священная корова, а научная теория, которая должна быть открыта для критики. Но существенно то, что споры о дарвинизме ведутся уже более 160 лет, а он до сих пор жив, как бы это ни печалило иных его критиков. Конечно, современный дарвинизм очень сильно отличается от своей оригинальной версии, но сама концепция естественного отбора — ядро теории — никем не была окончательно опровергнута, как это произошло с некоторыми другими концепциями прошлого. Сегодня теория Дарвина вполне сохраняет свою научную респектабельность. Что никак не делает ее догмой или неопровержимой истиной.
— Какие события в истории зоологии, на ваш взгляд, оказали наибольшее влияние на ее судьбу?
Конечно, самое главное событие — рождение эволюционной теории Дарвина в 1859 году, после которой биология уже никогда не будет прежней. Из более ранних — великие географические открытия, познакомившие европейских натуралистов с природой экзотических стран. О них ничего не писали античные авторы, поэтому в XVI–XVII веках зоологам пришлось многое начинать с чистого листа, вырабатывать собственные методы и приемы работы, а не слепо переписывать из древних книг.
— Сейчас ученые-систематики вынуждены пересматривать положение некоторых таксонов с опорой на данные генетики. А есть ли еще место для классической систематики, когда ученые, тот же Дарвин, находили вид, описывали его и обозначали как новый без оглядки на данные молекулярной биологии?
Да, такое тоже случается сплошь и рядом. Дело в том, что до сих пор в систематике многих животных (моллюски, чешуекрылые, жесткокрылые) большую роль играют ученые-любители. Они часто работают не менее эффективно, чем профессионалы, но далеко не всегда имеют доступ к этой пресловутой «молекулярке». Такие исследователи описывают большое число новых видов на основе лишь классических подходов. В этом нет ничего страшного, тем более что разнообразие видов животных настолько велико, что превосходит все возможности сообщества профессиональных биологов. А вот решать вопросы систематики современных организмов на уровне типа, класса или отряда без применения генетических методов уже вряд ли возможно. Такая «роскошь» доступна только палеонтологам, не имеющим генетической информации о своих объектах.
— Над чем вы сейчас работаете как ученый? В планах есть другие научно-популярные книги?
Моя основная научная специальность — малакология, то есть наука о моллюсках. Вот уже более четверти века я с удовольствием занимаюсь вопросами систематики и экологии этих животных, решаю небольшие по масштабу научные проблемы и полагаю, что на мой век работы в этой области еще хватит. Последние годы много занимаюсь историей биологии, сейчас мои интересы сосредоточены в основном на истории дарвинизма в России. Конечно, хотелось бы писать и для широкой публики, но это требует очень больших затрат времени и сил. Поэтому научно-популярные книги пишутся и публикуются не так часто, как хотелось бы. Из сюжетов, которые меня сейчас занимают, — история великого князя Николая Михайловича (1859–1919), который единственный из династии Романовых стал без всяких оговорок крупным ученым. Его больше всего знают как историка, но в первую половину жизни он очень серьезно занимался энтомологией и внес большой вклад в ее развитие в нашей стране. Вот об этой истории со ссылками на архивные документы и первоисточники хотелось бы написать. Думаю, получилась бы книга, интересная не только любителям русской истории, но и увлекающимся энтомологией. Да и научно-популярный труд о моем главном предмете — моллюсках — давно хотелось бы написать. Нельзя сказать, что они так уж забыты популяризаторами: осьминоги, к примеру, очень раскрученная тема. Но кроме головоногих, среди моллюсков немало и других удивительных существ, малоизвестных широкой публике.
— А какие темы сегодня больше всего интересны любителям научпопа?
Просветительская деятельность дает прекрасную возможность часто выступать с публичными лекциями. Аудитория, которую они собирают, интересуется теми же проблемами, что и большинство читателей научно-популярных книг: появление жизни на Земле и ее эволюция, происхождение человека, соотношение науки и религиозной веры, будущее людей. Это вполне естественно, поскольку эти вопросы во все времена привлекали думающих и мыслящих людей.
— Что посоветуете тем, кто только мечтает стать популяризатором науки, но еще не нашел в себе смелости начать?
Насчет смелости все очень просто. Как говорит одна моя добрая знакомая, много лет занимавшаяся йогой:
В йоге самое сложное — расстелить коврик
Проще говоря, собраться с духом и начать что-то делать. Хотя одного желания, конечно, мало. В первую очередь надо найти свою тему, в которой бы вы разбирались — пусть не как узкий специалист, а как очень просвещенный и продвинутый любитель. И желательно, чтобы она была уникальна, заняла бы свою нишу в информационном пространстве. Скажем, в сообществе отечественных популяризаторов науки много блестящих авторов, освещающих вопросы палеонтологии, эволюции биосферы, антропогенеза. Новичку сложно с первого же захода занять в такой компании заметное место.
 Максим Винарский — выпускник биофака Омского государственного педагогического университета
Фото: из личного архива Максима Винарского
Максим Винарский — выпускник биофака Омского государственного педагогического университета
Фото: из личного архива Максима Винарского
Очень рекомендую читать классические научно-популярные произведения, причем не только из избранной области. Лично для меня большую важность в этом деле сыграли в свое время книги Натана Эйдельмана. Хотя большая часть его книг посвящены не биологии, а истории, он в свое время издал замечательное сочинение о происхождении человека — «Ищу предка». В научном отношении она давно устарела, но в отношении языка и стиля остается лучшей научно-популярной книгой по биологии на русском языке ХХ века. По моему субъективному мнению.